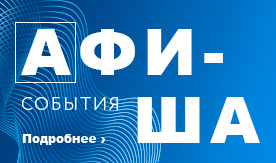Талантливый врач и уникальный диагност плеяды знаменитых новополоцких хирургов Вадим Троицкий отметил 85-летний юбилей
В минувшее воскресенье 85 лет исполнилось Вадиму Троицкому – талантливому врачу и уникальному диагносту блестящей плеяды знаменитых новополоцких хирургов. Более пятидесяти лет в профессии, богатый практический опыт и бесценные навыки, полученные от известных докторов медицинских наук, а также бесчисленное количество пациентов, для которых он стал вторым ангелом-хранителем… Таков послужной список юбиляра. Согласитесь, есть чем гордиться!
Вадим Троицкий – не только первоклассный врач, но и прекрасный собеседник, которого можно слушать часами. Рассказывать он умеет в совершенстве, делает это увлекательно, смакуя каждый кусочек воспоминаний. За долгие годы хирургической практики у него накопилось столько интересных историй, что впору писать многотомную книгу! И не только о его профессиональной деятельности. Вадим Олегович – дитя войны, Почетный донор СССР, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Неудивительно, что наш разговор с этим многогранным человеком растянулся не на один час.
![]() Вадим Олегович, в каком возрасте вы застали Великую Отечественную? Расскажите о вашей семье и о том непростом времени.
Вадим Олегович, в каком возрасте вы застали Великую Отечественную? Расскажите о вашей семье и о том непростом времени.
– Родился я в Куйбышеве (ныне Самара – прим. ред.). На начало войны мне исполнилось три года. Отца, геодезиста-топографа, забрали на Колыму разведывать стратегические полезные ископаемые, микроэлементы, в том числе золото. Им Советский Союз тогда расплачивался с Америкой помощь по лендлизу. Мы с матерью поехали к бабушке в Уфу, где я пошел в детский сад. С того времени помню голод и большой поток эвакуированных людей, которых подселяли к местным семьям.
Моей матери, химику-лаборанту нефтяной промышленности, доверили проверять на качество содержимое цистерн с бензином, которым нашу страну снабжали башкиры и татары. А дядю – студента железнодорожного техникума – отправили на железную дорогу ремонтировать паровозы. Домой он приходил весь черный от мазута и приносил с собой вязанку промасленных шпал, чтобы топить печь. Люди старались выживать, как могли. Держались друг за друга. Вся страна была единым организмом. Я вырос в той атмосфере, поэтому выработал жизненную установку: трудиться и не жаловаться.
К отцу нам разрешили поехать в середине войны. Позже там, на Колыме, родились мои младшие брат и сестра. Мама просто обожала акушерок, которые ей помогали, и называла врачебное дело благородной профессией. Тогда я и начал грезить медициной.
![]() Как скоро детские мечты воплотились в реальность?
Как скоро детские мечты воплотились в реальность?
– После войны окончил школу в Бирске и поступил на работу слесарем по ремонту бурового нефтяного оборудования. В трудовой были сплошные благодарности, но я по-прежнему хотел в медицину. Поэтому поступил в мединститут. Начиная со среднего курса уже работал медбратом в детской клинической больнице, стремился помогать семье. Приходилось трудиться ночами. В приемном покое просил: если что-то экстренное, обязательно вызывать меня, чтобы я видел, как оказывается скорая помощь.
На старших курсах подрабатывал в местной СМП. Там хорошо поднаторел, особенно в диагностике. Зарекомендовал себя неплохо, даже предлагали быть начмедом на одной из подстанций. Но не согласился, практика мне была важнее начальственной должности.
Следующая ступень – работа хирургом в детской клинической больнице Уфы. В те годы я прошел курсы усовершенствования в Москве, у знаменитого профессора Станислава Яковлевича Долецкого. Побывал там во многих клиниках. Интернатуры тогда не было, поэтому сам просился на дежурства: тяга к знаниям была сильная. Однажды был на смене с одним опытным хирургом. К нам поступил ребенок с неясным диагнозом. Было решено направить его в детскую больницу, но я настоял на том, чтобы оставить его в хирургии. Позже в операционной выяснилось, что у ребенка перитонит. Врач, с которым я дежурил, сказал: «Я преклоняюсь перед твоей диагностикой». А мне неудобно стало, я же еще такой «зеленый» был!
Затем работал заведующим участковой больницы в Татышлинском районе Башкортостана. Там жили в основном удмурты, пришлось изучить их язык. Это было время закалки. Однажды добирался до больного верхом на лошади, в мороз и пургу. Также довелось выполнять все акушерские и гинекологические операции, поскольку специалистов было мало.
Следующая запись в трудовой – торакальное отделение Республиканского клинического онкодиспансера в Уфе. Тогда же посчастливилось пройти курсы усовершенствования в Казани – у знаменитого профессора, основателя казанской хирургической школы онкологов Мойше Зельмановича Сигала.
![]() Что привело талантливого хирурга из Южного Урала в наш белорусский город нефтехимии?
Что привело талантливого хирурга из Южного Урала в наш белорусский город нефтехимии?
– В Полоцке жил мой дядя, он предложил мне посетить строящийся Новополоцк. Я сразу отправился к заведующему городским отделом здравоохранения Виталию Васильевичу Козлову. Он, кстати, так же, как и я, всей душой любил хирургию. Поэтому общий язык нашли сразу. Так, с 1976-го я стал новополочанином. А спустя год познакомился с будущей женой Натальей, которая проходила практику в больнице. Супруга потом долгое время работала терапевтом в поликлинике №1. Я же начинал в горбольнице хирургом-ординатором, а после трудился в поликлиниках №4 и №1.
Когда я приехал, заведующим хирургическим отделением был Альберт Иванович Сушков – грамотный, начитанный врач и превосходный клиницист. У нас собрался отличный коллектив: все ребята энергичные, работоспособные, умные. Новополоцких хирургов знали во всей республике. Наши специалисты делали практически все сложные операции. В период перестройки на базе подразделения даже открыли филиал санавиации, мы выезжали в районы и оперировали больных.
![]() На ваших глазах хирургия совершенствовалась. В одном из интервью ваш бывший коллега Петр Лысенков рассказывал, как раньше в качестве шовного материала приходилось применять парашютные стропы…
На ваших глазах хирургия совершенствовалась. В одном из интервью ваш бывший коллега Петр Лысенков рассказывал, как раньше в качестве шовного материала приходилось применять парашютные стропы…
– Да, и не только. Если нужно было наложить косметический шов, брали обработанный конский волос. А для того, чтобы прокапать детей с перитонитом, к катетеру подсоединяли оболочку от тонких телефонных проводов. Не было раньше и современных методов диагностики: ни УЗИ, ни лапароскопии. Кстати, последнюю методику новополоцкие врачи освоили одними из первых.
Многое приходилось постигать эмпирическим путем. Когда я работал медбратом в детской клинической больнице, туда часто поступали новорожденные с пневмонией. К сожалению, реанимации тогда не было, как и апирогенных катетеров. Умирающих детей медсестры со слезами выносили на холодную веранду. А те вдруг стали выздоравливать. Все потому, что морозный воздух высушивал легкие, оттого малышам становилось легче.
![]() Уверена, будучи высококлассным хирургом и диагностом, вы спасли не одну жизнь. Интересно, как благодарят пациенты человека, подарившего им второе рождение?
Уверена, будучи высококлассным хирургом и диагностом, вы спасли не одну жизнь. Интересно, как благодарят пациенты человека, подарившего им второе рождение?
– Самая лучшая ответная реакция – приятные слова. Как-то одна пожилая пациентка мне сказала: «У вас теплые руки». А несколько лет назад, прогуливаясь по городу, встретил молодую пару с очаровательной двойней. Поздоровались, сделал комплимент малышне. А родители мне в ответ: «Это благодаря вам!». Оказывается, в свое время будущей маме я поставил правильный диагноз, и после срочного удаления кисты женщина смогла забеременеть. Большей благодарности для меня нет!
Еще один случай в Уфе запомнил на всю жизнь. Когда работал в онкологии, оперировал женщину с опухолью молочной железы. После операции она спросила: «А что у меня было?». Отвечаю: «Пустячок!», чтобы не волновалась. Спустя время она мне принесла уральский полудрагоценный камень яшму с гравировкой: «Доктору Троицкому за пустячок».
![]() Ликвидация чернобыльской аварии – особая страница в вашей биографии. Нет сомнений, что ваша помощь там очень пригодилась.
Ликвидация чернобыльской аварии – особая страница в вашей биографии. Нет сомнений, что ваша помощь там очень пригодилась.
– Когда случилась трагедия 1986 года, мне было больше 50 лет. Поэтому когда вызвали в военкомат, мог отказаться. Но не сделал этого. Мой принцип: надо – значит надо!
В поселке Рудаково организовали госпиталь, где меня назначили на должность заведующего приемно-сортировочным отделением. Первые пять операций сделал я.
В близлежащих Хойниках тогда опытных хирургов не осталось, поэтому нам присылали из Гомеля вчерашних выпускников, мы их обучали.
![]() Какое напутствие дадите молодым людям, которые стремятся стать хирургами?
Какое напутствие дадите молодым людям, которые стремятся стать хирургами?
– Постоянно совершенствовать мастерство, в любой ситуации сохранять терпение и мужество. Немаловажно и железное здоровье, ведь профессия не из простых. Бывало, что мне приходилось оперировать пять аппендицитов за ночь. В этом помогла, в том числе, и спортивная подготовка: имею вторые разряды по лыжам и по стрельбе. Ну и конечно, без желания помогать пациентам – никуда. Важно любить других больше, чем себя, особенно тех, кто нуждается в помощи.
Наталья Харина
фото Елены Емельяновой
Оставайтесь с нами ВКонтакте / Одноклассники / Instagram / Facebook / Телеграм
 Прогноз на 2 недели
Прогноз на 2 недели