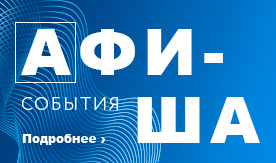Кавалер ордена Красной Звезды Владимир Щепин о службе в Афганистане: физическая подготовка играла не главную роль, на первом плане – внутренний мир человека
Значимость ратного подвига воинов-интернационалистов очень высока. Именно они переняли эстафету мужества и стойкости у ветеранов Великой Отечественной войны. Корреспондент «НС» пообщался с кавалером ордена Красной Звезды Владимиром Щепиным.
Владимир Щепин называет себя коренным новополочанином. Его родители приехали на всесоюзную стройку в Витебскую область и связали свою жизнь с молодым городом нефтепереработчиков. Наш герой появился на свет практически одновременно с возведением жилья для первостроителей.
Шли годы. Володя поступает в училище №28 на специальность «Электоромонтер по ремонту электрооборудования». В тот год информация о вводе войск в Афганистан уже была официально озвучена, но, что конкретно там происходило, люди не знали. Молодой человек очень стремился попасть в воздушно-десантные войска. Импульсивной натуре хотелось выделиться на фоне сверстников. Было время, когда отлынивать от армии считалось постыдным и недостойным поступком для настоящего мужчины.
После окончания училища с отличием для Владимира подошло время призыва в армию. Юноша начал задумываться над тем, что на самом деле происходит в Афганистане. Особенно, когда в Боровуху стали приходить цинковые гробы, стало понятно, что в горах идут боевые действия. Владимир Щепин попал в Псковскую дивизию ВДВ, где велась целенаправленная подготовка к службе вдали от страны. Бег, прыжки, рукопашный бой – все это впоследствии пригодилось нашему герою. Учебка длилась полгода, и в ноябре 1980-го под Витебском был сформирован сводный отряд. Уже из Орши его отправили в Кабул.
Первые впечатления наш герой получил, глядя из иллюминатора самолета на красивые горные вершины и ущелья. Как только приземлились, парень сразу почувствовал огромную разницу с тем, что было на Родине.
– Мы с другом попали в 57-й полк, который находился в крепости Бала-Хиссар на окраине Кабула. Во время переезда создалось впечатление невероятной разрухи и нищеты. В цитадели меня определили во второй батальон связистом. Полная экипировка состояла из переносной радиостанции Р-107М, которая весила 18 кг, бронежилета, автомата и боекомплекта – все вместе около 30 кг. Когда мы выходили на задание, то не употребляли слово «война», говорили «рейд». Первое время нас не брали на «боевые».
Практически еще три месяца проходили курс молодого бойца. Учились по-другому дышать, ходить, стрелять. Разряженность воздуха диктовала свои правила. Удивительно, но худенькие, не выделяющиеся особой силой ребята легко смогли адаптироваться к сложным условиям высокогорья, а накачанных солдат иногда приходилось таскать на себе. Мне только теперь стало очевидно, что в экстремальных ситуациях физическая подготовка играет не главную роль. На первый план выходит внутренний мир человека, его духовная составляющая. Важной частью адаптации стало принятие неизбежности существующей реальности, – рассказал Владимир Финодентович.
Первый боевой выход нашему герою запомнился навсегда. Близко увидел смерть товарища. Сразу ушла иллюзия легкой жизни. Ее место заняли суровые будни, понимание того, что либо ты, либо тебя… Постепенно появилось ощущение обыденности, в которой наивысшей ценностью стала взаимовыручка.
Одной из основных особенностей Афганистана можно считать его климат. Жара доходила до сорока пяти градусов. Для того, чтобы ночью уснуть, бойцы смачивали простыню и ею потом накрывались. За ночь эту процедуру приходилось проделывать несколько раз. Многие воины-интернационалисты отмечали отличительные черты местного менталитета. Например, дети пытались наладить с советскими солдатами торгово-обменные отношения. Но были и такие ребята, контакты с которыми заканчивались трагедиями. Ведь многих афганских детей уже с детства готовили стать смертниками.
– 24 декабря 1981 года у меня был последний боевой выход. Нам доложили, что в одном из аулов провинции Джелалабада находится банда душманов. Была поставлена задача блокировать ее.
Поднявшись по тревоге, сели на бронегруппу, попытались обойти этот населенный пункт и выйти на заданную позицию. Но ротный понял, что мы сбились с пути и не успеваем в назначенное место. Тогда решили срезать путь через аул. Все было спокойно. Оставалось буквально пятнадцать метров до конца улицы, когда всех ослепила вспышка и из окна близлежащего дома нашу группу прошила очередь трассирующих пуль. Мы поняли, что попали в засаду.
Ротный крикнул, чтобы все забегали в соседний переулок. В этот момент я почувствовал, что мне по ноге словно палкой ударили. Споткнулся и упал. По бедру медленно растеклось тепло. Осмотрев ногу, понял, что ранен и передвигаться самостоятельно не смогу. Товарищ забрал автомат, станцию и понес меня на руках под шквальным огнем душманов. Через секунду я получил второе ранение, а моему спасителю пули перебили ноги и одна попала в голову. Я понял, что, если не буду действовать быстро и решительно, умрем оба. Мне удалось вытащить раненого товарища из-под обстрела. Через какое-то время нас нашел медик. Я сказал, что доползу сам. Медбрат, прикрывая раненого своим телом сверху и подтаскивая его под собой, скрылся за поворотом.
Мы все собрались в каком-то помещении. Когда несли мою радиостанцию, то сбили все настройки частот. Я все восстановил и вызвал подкрепление. Из окна было видно, как «духи», никого не боясь, шли по улице с автоматами в нашем направлении. На счастье, в небе закружили вертолеты. Летчики – молодцы! Они много жизней спасали. Вскоре подошла бронегруппа, и нас эвакуировали. Именно за этот бой я получил орден Красной Звезды.
В Афганистане советские воины проявили лучшие человеческие качества: достоинство, стойкость и благородство. Однако сегодня в некоторых странах пытаются переписать историю, очерняя подвиги наших воинов, не допустивших проникновения в Советский Союз наркотрафика. Но подлинные истории живых свидетелей событий того времени никогда не позволят этого сделать.
Виктор Бортников
Фото Виктора Орлова
 Прогноз на 2 недели
Прогноз на 2 недели